Вася
/Глава 1/
/Глава 1/
Первая публикация романа-взросления чувашской писательницы Дианы Ковригиной
«

Иллюстрации: Eli!
Они очень торопились сесть в такси, но в баклажановых Жигулях не было места для суеты: мамин пакет с важными бумагами сползал на резиновый коврик, ремни безопасности не застёгивались, двери закрывались с третьей попытки. В салоне настойчиво пахло автомобилем, и от этого девочку сразу же укачало. Пока время тянулось, девочка старалась отвлечься на мокрый мартовский пейзаж в ближайшем окне. Порозовевшие от влаги стволы деревьев и мраморный от соли асфальт перемежался сначала с панельными г-образными домами и старыми казармами, потом с красивыми военными храмами и стеклянными дворцами, а затем снова с г-домами.
Мама молчала на соседнем сиденье, и время от времени точечно обстреливала девочку взглядами. Таксисту мама сказала только:
— В ДКБ.
Таксист ничего не спрашивал и ехал уверенно, из чего девочка сделала вывод, что таксист что-то знает про ДКБ. Опыт подсказывал, что они едут в одно из тех мест, где тебя всегда ждут неприятности: придётся подолгу сидеть у дверей тихих кабинетов, пока не стемнеет, плюс могут попросить показать попу. И обязательно будут унизительно обсуждать тебя с женщинами, у которых изо рта пахнет гадостью. Всё это девочка уже проходила. Дед брал её с собой на праздники в МВД и ПКБ, бабушка таскала в Собес, а мама — в ФНС. Но про ДКБ ей слышать до сих пор не приходилось, поэтому она на всякий случай готовилась ко всему сразу: стоять в очереди, раздеваться до носков и слушать о себе в третьем лице.
Чутьё никогда не подводило девочку. Это она поняла, когда машина остановилась у шлагбаума с непроницаемой будкой, охранявшей покой высокого серого здания. Чёрная табличка у входа не обещала ничего хорошего: казённой серебрянкой была выложена «Детская клиническая больница» (В-Е-Ч-Н-О-С-Т-Ь). Воздух упреждающе наполнился летучими соединениями органического разложения и санитарной дисциплины.
В здании кроме всепоглощающего евроремонта не было ничего нового. Из полукруглых прорезей в пластиковых щитах на прибывающую человеческую массу смотрели разнокалиберные, но привычные женщины. В регистратуре девочка подслушала, что её записали к дерматологу, и поняла: точно придётся показывать попу.
Шумно расспросив про очередь в двести тринадцатый кабинет, мама и девочка заняли в ней последнее место. Девочка вглядывалась в детей, с которыми вскоре должна была разделить одну участь. Если они и испытывали проблемы с седалищем, то виду не подавали. Но рано было терять бдительность. Девочка уже читала Фрейда с верхней полки домашней библиотеки, поэтому ей было известно, что сны про коричневых лошадей можно связать с нерегулярным стулом. Ей также было известно, что умением видеть связь между головой и попой взрослые пользовались избирательно, непредсказуемо и чаще во вред.
Внимание девочки привлекла другая — тихая в дальнем углу помещения. Она была похожа на жирафа или молочную коровку с конфетной обёртки, карамельную с белыми проталинами. У неё были те же длинные ресницы, и тот же спокойный карий взгляд.
Круглый плафон над дверью велел “НЕ ВХОДИТЬ”, но, когда из кафельной глубины доносился приглашающий выкрик, в кабинет всё равно входили. Врач попросила девочку сесть на неустойчивый кожаный табурет, надела перчатки и стала проворно копошиться в её голове. Они отражались в створках медицинского шкафа, и были похожи на обезьян, которых показывали по телевизору. Мама как обычно врала и сочиняла на ходу: про соседку, которая сглазила девочку, и про кровь на подушке, и про варёное яйцо под кроватью, которое не помогло. Потом девочку попросили выйти в коридор — в кабинете её ещё долго обсуждали, переходя с серьёзного тона на громкий шёпот.
Мама покинула специалиста тревожной и уверенной. Она прижимала к груди веер направлений, который растаял только к концу долгого дня. Из приятного был только обед в больничном кафетерии, где преобладала добродушная, но всё же скорбная атмосфера.
Долгими чёрными ночами девочка не раз вынимала этот день из памяти и удивлялась тому, как неумолимо и рассеянно её пережёвывал всеядный ход времени. Череда минутных событий привела её в новую среду обитания, в которой не было другого агрегатного состояния, кроме выздоровления.
Ей особенно запомнились глаза мелкокалиберной женщины из регистратуры, объявившей, что «будем ложиться». Они были чисто голубыми, как у арийских нацистов, сияли сочувственно, смотрели грубо — такие глаза были у всех сотрудниц ДКБ. Мама беспрепятственно вышла через дверь для здоровых, а девочку через дверь для больных ввели в чёрный весенний сумрак.
На дно квадратного двора-колодца из многоэтажных окон проливались излишки света, впотьмах девочка с медсестрой стали пробираться то ли вглубь, то ли вовне: через угловатые арки, деревянные двери, дряхлые лифты, душные подземелья, траволаторы и лестницы, встречая редких невыразительных людей в халатах. Преодолевая долговязую кишку, соединяющую шестые этажи двух абстрактных зданий, девочка всматривалась в тучную массу открывшегося ландшафта, пока его не удалось препарировать на членораздельный пейзаж. Ей казалось, что зрение её обманывает: вокруг не было ничего, кроме больничных корпусов и малоподвижной мглы, в которой угадывался лес. Контуры строений сплетались в тугие обитаемые узлы и разбегались в стороны. Они не начинались и не заканчивались, они были всем.
Когда девочку привели в жёлтую комнату с двумя сквозными окнами — одно на улицу, другое в больничное отделение, — она поняла, что «лежат» здесь. Входную дверь — тоже наполовину прозрачную — венчала пластиковая табличка с надписью, жидко намазанной красной краской: «Бокс №2». В тот день на зыбком луче её жизни появился первый отрезок.
Её соседкой оказалась гнусавая и храпящая Вера пятнадцати лет. Иногда было заметно, как из-под её вечной, нетленной трикотажной кофточки тихо летят на пол мелкие чешуйки кожи. При девочке она не чесалась и принимала в ответ молчаливую благодарность за толику бытового такта. В остальном же совместное существование было трудно выносимым.
Вера постоянно знакомилась с новыми мальчиками в отделении и заводила с ними больничные романы, которые вяло длились до выписки партнёров. Катализатором любви нередко оказывался диагноз кандидата — такой, чтобы верин псориаз на фоне его папуллярной жемчужницы казался даже очаровательным и просто девчачьим.
Обескураживающая логика тестостерона заставляла парней являться на свидания прямо из процедурного кабинета, отчего бокс обкладывало удушающими дегтярными испарениями. Но авторские мази главврача работали лучше, чем пахли, и через несколько недель пациент-любовник покидал отделение. Тогда соседка переставала разговаривать и приходить в школу (за большой пластмассовый стол в холле, где с 9:00 до 12:45 тупые санитарки пытались объяснять тупым детям малоизвестные аспекты из жизни чёрных дыр и эсхатологические концепции протославян). К концу страстной седмицы её подушка начинала возвращать слёзную влагу под весом подростковой головы. Тогда соседка стреляла цигарку у медсестры Валерии и шла курить у чёрного хода в корпус. А под вечер, от любви чуть было не запрыгнув в последний вагон ремиссии, снова покрывалась пятнами и осыпала ареал кровати полупрозрачными хлопьями из рукавов. Как Царевна-Лягушка — эндемический, прекрасный и страшный оборотень, красавица-и-чудовище.
Будни состояли в основном из блуждания по корпусам — их оказалось почти пятьдесят за вычетом хозяйственных флигелей и глухих построек совершенно неизвестного назначения, из которых никто не выходил, в которые никто не входил. Здесь, среди бедненьких детей целыми днями бродила девочка: каждый день — новый корпус, новое отделение. Девочка ходила к психологу, к психотерапевту и психиатру — последний похвалил её за несклоняемость к суициду, но на всякий случай прописал «негрустин» перорально, который оказался ничем иным как тридцатипроцентным раствором анисовой водки. Девочка ходила к трихологу, эндокринологу, ветеринару, гастроэнтерологу, оториноларингологу, флебологу, урологу, проктологу, неврологу, пластическому хирургу, логопеду, рентгенологу и врачам ультразвуковой диагностики. Больше всего её впечатлило отделение гинекологии: там в прозрачных боксах лежали взрослые девочки, как большие фарфоровые куклы в джинсах, упакованные в пластиковые коробки. Они глядели так, будто их здесь мучали. Глаза их не лгали — это девочка поняла после первого знакомства с ожившей грудой растопыренного металла на кривой высокой ноге, которую называли троном. Хотя бы на ней был костюм-двойка: футболка и шерстяные носочки.
Мама молчала на соседнем сиденье, и время от времени точечно обстреливала девочку взглядами. Таксисту мама сказала только:
— В ДКБ.
Таксист ничего не спрашивал и ехал уверенно, из чего девочка сделала вывод, что таксист что-то знает про ДКБ. Опыт подсказывал, что они едут в одно из тех мест, где тебя всегда ждут неприятности: придётся подолгу сидеть у дверей тихих кабинетов, пока не стемнеет, плюс могут попросить показать попу. И обязательно будут унизительно обсуждать тебя с женщинами, у которых изо рта пахнет гадостью. Всё это девочка уже проходила. Дед брал её с собой на праздники в МВД и ПКБ, бабушка таскала в Собес, а мама — в ФНС. Но про ДКБ ей слышать до сих пор не приходилось, поэтому она на всякий случай готовилась ко всему сразу: стоять в очереди, раздеваться до носков и слушать о себе в третьем лице.
Чутьё никогда не подводило девочку. Это она поняла, когда машина остановилась у шлагбаума с непроницаемой будкой, охранявшей покой высокого серого здания. Чёрная табличка у входа не обещала ничего хорошего: казённой серебрянкой была выложена «Детская клиническая больница» (В-Е-Ч-Н-О-С-Т-Ь). Воздух упреждающе наполнился летучими соединениями органического разложения и санитарной дисциплины.
В здании кроме всепоглощающего евроремонта не было ничего нового. Из полукруглых прорезей в пластиковых щитах на прибывающую человеческую массу смотрели разнокалиберные, но привычные женщины. В регистратуре девочка подслушала, что её записали к дерматологу, и поняла: точно придётся показывать попу.
Шумно расспросив про очередь в двести тринадцатый кабинет, мама и девочка заняли в ней последнее место. Девочка вглядывалась в детей, с которыми вскоре должна была разделить одну участь. Если они и испытывали проблемы с седалищем, то виду не подавали. Но рано было терять бдительность. Девочка уже читала Фрейда с верхней полки домашней библиотеки, поэтому ей было известно, что сны про коричневых лошадей можно связать с нерегулярным стулом. Ей также было известно, что умением видеть связь между головой и попой взрослые пользовались избирательно, непредсказуемо и чаще во вред.
Внимание девочки привлекла другая — тихая в дальнем углу помещения. Она была похожа на жирафа или молочную коровку с конфетной обёртки, карамельную с белыми проталинами. У неё были те же длинные ресницы, и тот же спокойный карий взгляд.
Круглый плафон над дверью велел “НЕ ВХОДИТЬ”, но, когда из кафельной глубины доносился приглашающий выкрик, в кабинет всё равно входили. Врач попросила девочку сесть на неустойчивый кожаный табурет, надела перчатки и стала проворно копошиться в её голове. Они отражались в створках медицинского шкафа, и были похожи на обезьян, которых показывали по телевизору. Мама как обычно врала и сочиняла на ходу: про соседку, которая сглазила девочку, и про кровь на подушке, и про варёное яйцо под кроватью, которое не помогло. Потом девочку попросили выйти в коридор — в кабинете её ещё долго обсуждали, переходя с серьёзного тона на громкий шёпот.
Мама покинула специалиста тревожной и уверенной. Она прижимала к груди веер направлений, который растаял только к концу долгого дня. Из приятного был только обед в больничном кафетерии, где преобладала добродушная, но всё же скорбная атмосфера.
Долгими чёрными ночами девочка не раз вынимала этот день из памяти и удивлялась тому, как неумолимо и рассеянно её пережёвывал всеядный ход времени. Череда минутных событий привела её в новую среду обитания, в которой не было другого агрегатного состояния, кроме выздоровления.
Ей особенно запомнились глаза мелкокалиберной женщины из регистратуры, объявившей, что «будем ложиться». Они были чисто голубыми, как у арийских нацистов, сияли сочувственно, смотрели грубо — такие глаза были у всех сотрудниц ДКБ. Мама беспрепятственно вышла через дверь для здоровых, а девочку через дверь для больных ввели в чёрный весенний сумрак.
На дно квадратного двора-колодца из многоэтажных окон проливались излишки света, впотьмах девочка с медсестрой стали пробираться то ли вглубь, то ли вовне: через угловатые арки, деревянные двери, дряхлые лифты, душные подземелья, траволаторы и лестницы, встречая редких невыразительных людей в халатах. Преодолевая долговязую кишку, соединяющую шестые этажи двух абстрактных зданий, девочка всматривалась в тучную массу открывшегося ландшафта, пока его не удалось препарировать на членораздельный пейзаж. Ей казалось, что зрение её обманывает: вокруг не было ничего, кроме больничных корпусов и малоподвижной мглы, в которой угадывался лес. Контуры строений сплетались в тугие обитаемые узлы и разбегались в стороны. Они не начинались и не заканчивались, они были всем.
Когда девочку привели в жёлтую комнату с двумя сквозными окнами — одно на улицу, другое в больничное отделение, — она поняла, что «лежат» здесь. Входную дверь — тоже наполовину прозрачную — венчала пластиковая табличка с надписью, жидко намазанной красной краской: «Бокс №2». В тот день на зыбком луче её жизни появился первый отрезок.
***
Её соседкой оказалась гнусавая и храпящая Вера пятнадцати лет. Иногда было заметно, как из-под её вечной, нетленной трикотажной кофточки тихо летят на пол мелкие чешуйки кожи. При девочке она не чесалась и принимала в ответ молчаливую благодарность за толику бытового такта. В остальном же совместное существование было трудно выносимым.
Вера постоянно знакомилась с новыми мальчиками в отделении и заводила с ними больничные романы, которые вяло длились до выписки партнёров. Катализатором любви нередко оказывался диагноз кандидата — такой, чтобы верин псориаз на фоне его папуллярной жемчужницы казался даже очаровательным и просто девчачьим.
Обескураживающая логика тестостерона заставляла парней являться на свидания прямо из процедурного кабинета, отчего бокс обкладывало удушающими дегтярными испарениями. Но авторские мази главврача работали лучше, чем пахли, и через несколько недель пациент-любовник покидал отделение. Тогда соседка переставала разговаривать и приходить в школу (за большой пластмассовый стол в холле, где с 9:00 до 12:45 тупые санитарки пытались объяснять тупым детям малоизвестные аспекты из жизни чёрных дыр и эсхатологические концепции протославян). К концу страстной седмицы её подушка начинала возвращать слёзную влагу под весом подростковой головы. Тогда соседка стреляла цигарку у медсестры Валерии и шла курить у чёрного хода в корпус. А под вечер, от любви чуть было не запрыгнув в последний вагон ремиссии, снова покрывалась пятнами и осыпала ареал кровати полупрозрачными хлопьями из рукавов. Как Царевна-Лягушка — эндемический, прекрасный и страшный оборотень, красавица-и-чудовище.
Будни состояли в основном из блуждания по корпусам — их оказалось почти пятьдесят за вычетом хозяйственных флигелей и глухих построек совершенно неизвестного назначения, из которых никто не выходил, в которые никто не входил. Здесь, среди бедненьких детей целыми днями бродила девочка: каждый день — новый корпус, новое отделение. Девочка ходила к психологу, к психотерапевту и психиатру — последний похвалил её за несклоняемость к суициду, но на всякий случай прописал «негрустин» перорально, который оказался ничем иным как тридцатипроцентным раствором анисовой водки. Девочка ходила к трихологу, эндокринологу, ветеринару, гастроэнтерологу, оториноларингологу, флебологу, урологу, проктологу, неврологу, пластическому хирургу, логопеду, рентгенологу и врачам ультразвуковой диагностики. Больше всего её впечатлило отделение гинекологии: там в прозрачных боксах лежали взрослые девочки, как большие фарфоровые куклы в джинсах, упакованные в пластиковые коробки. Они глядели так, будто их здесь мучали. Глаза их не лгали — это девочка поняла после первого знакомства с ожившей грудой растопыренного металла на кривой высокой ноге, которую называли троном. Хотя бы на ней был костюм-двойка: футболка и шерстяные носочки.
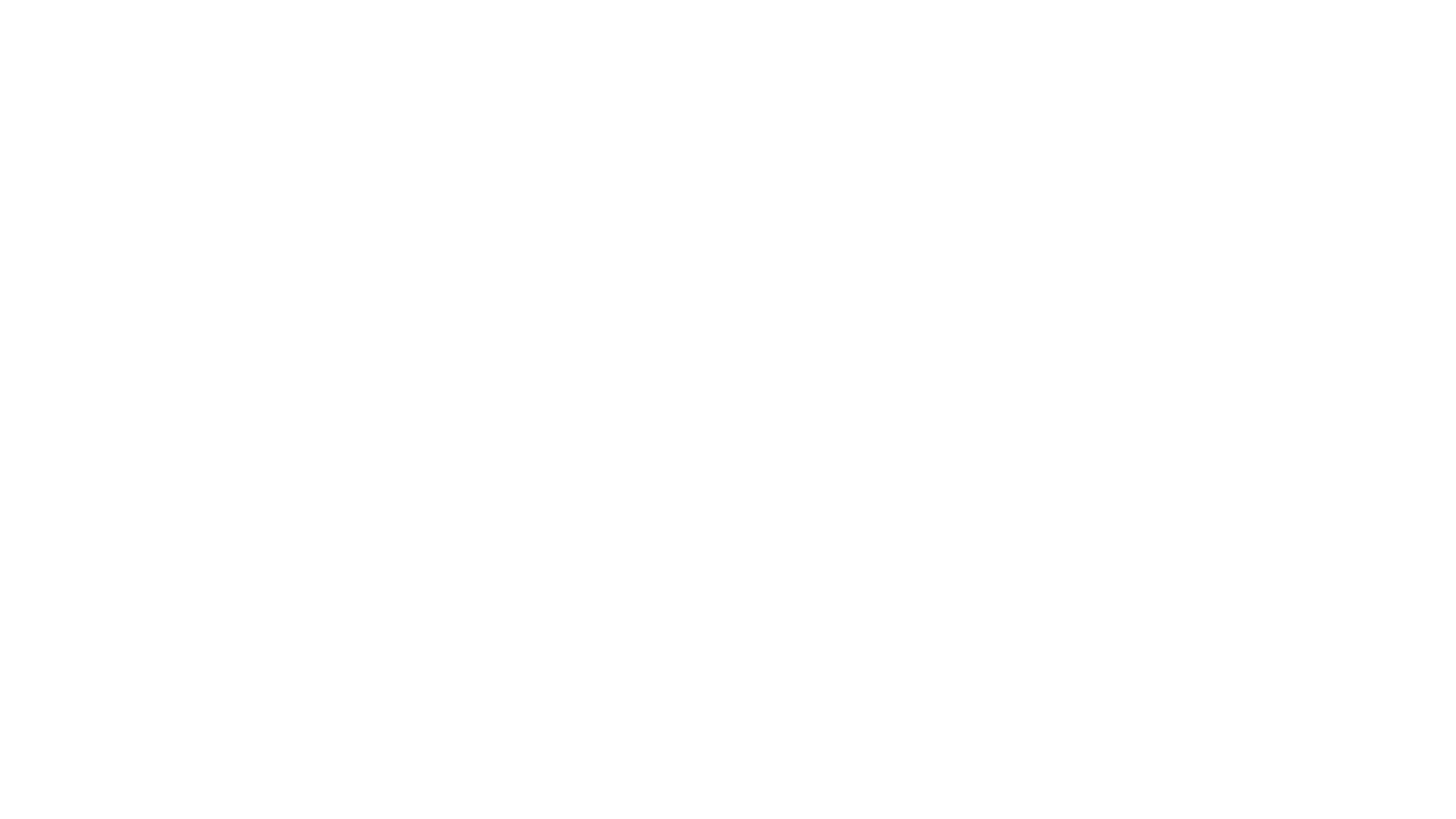
Каждый новый день девочка тянула за лямку к закату, как бурлаки на Волге, и время кое-как шло. Сначала мама навещала её один раз в неделю, потом — один раз в две недели, затем — один раз в три недели. К Вере приходили чаще, её родители говорили с интересным акцентом, почти по-французски мыча окончания слов. Они приносили с собой мороженое с яблочно-брусничным повидлом, серый запах улицы, сигарет и далёкого чужого дома.
С диагнозом врачи не торопились. По понедельникам грешили на лишайники, во вторник винили вилочковую железу, в среду подозревали продукты полураспада желудочно-кишечного тракта, в четверг водили к мозгоправам, а по пятницам окончательно разводили руками, не в силах постичь природу происходящего на девочкином затылке. Там, в установленном месте образовался стабильная полянка колючих волосков длиной в миллиметр, которые для верности рекомендовали раз в неделю сбривать. Ежедневно Голый Пятачок щедро смазывался раствором неизвестного происхождения с примесью серебра и пихтового масла — пахнул он на удивление неплохо.
Со временем у девочки появились любимые врачи, друзья и недоброжелатели в среде санитарок и ординаторов. Особое восхищение у неё вызывала медсестра Валерия с короткой чёрной стрижкой, которая под халатом носила стальную кольчугу с круглым вырезом для правой груди. Оставаясь на ночное дежурство, в тёмный час она позволяла себе курить на пожарной лестнице. И порой надолго пропадала из спящего отделения, возвращаясь к рассвету посиневшей от усталости. По слухам она подрабатывала на старом ипподроме — отстреливала лошадей, взбесившихся от инъекций новейших препаратов. У Валерии была лёгкая рука, и во время регулярных заборов крови девочка разглядывала её лицо: острый орлиный нос, скомканная тушь на длинных ресницах и гипнотизирующие большие губы, закатанные в слой сливовой помады. Однажды во время ромашковой клизмы лацканы её халата изогнулись белой дугой, и девочке открылся серебристый кольчатый доспех.
— Чего сжимаешь? А, заметила? Это… я грудь на войне потеряла, — без горечи объяснила медсестра. — Ну, как потеряла. Отняли по молодости — я лучницей тогда служила в Шупашкаре. Принято так было. Спускайся, — она рыцарски подала девочке крепкую руку и подвела её к белому эмалированному судну.
Мама совсем перестала приезжать, и только изредка присылала смски, скупясь на слова, потому что за каждое слово приходилось платить по счетам в долларах. Пошли жаркие дни и грозовые ночи, сменявшиеся долгими зелёными днями. В воздухе так оглушительно пахло цветением, что крутило живот.
Этим летом она познакомилась с Наташей. Наташей оказалась молочная коровка, которую она встретила у кабинета в свой первый здешний день. Когда содержимое всех корпусов в солнечную погоду высыпа́ло на свежие газоны, она одна оставалась сидеть в угловатой тени здания.
— Привет! А что это у тебя за пятна? — сразу подошла и спросила девочка.
— Это витилиго, это как аллергия на солнце, — беззастенчиво ответила Наташа. В больнице было принято начинать знакомство с расспросов о болезнях, к этому быстро привыкали.
— Интересно, а у меня аллергия на всё, кроме солнца. Как тебя зовут?
— Наташа. А тебя?
— Вася.
— У меня так дедушку звали, он умер от осады.
— Мой тоже умер от досады. У тебя аллергия чешется?
Разговор быстро перетёк в доверительную гавань. Наташа оказалась из Москвы. Она похвасталась, что в Симбирск они с мамой добрались всего за пять дней: день на аэросанях, три на поезде, и сутки на большом атомном пароме. Наташа легко подбирала слова и вела диалог уверенно, но не жестоко. Вася не могла оторвать глаз от двух неправильных карамельных пятен на её коленках — как будто девочка-коровка бежала по огромной сковородке, споткнулась и упала. Пониже этих пятен из обшарпанных сандалий вырастали необыкновенные носки со старинными паровозами. Наташа лежала в ДКБ уже в третий раз, знала почти всех врачей, и рассказывала ужасные сплетни про гастроэнтеролога Людоедова, который однажды вместо желудка засунул катетер прямо в детское лёгкое. Ошибка вскрылась вместе с самим Мишей на секционном столе: ночью мальчик незаметно задохнулся. Васе эта история очень понравилась.
Этим летом она впервые не обгорела, не ходила с горячими румяными щеками, не соскабливала прозрачные шкурки с плеч. Всё время они проводили с Наташей под единственным каштаном на пригорке, откуда открывался вид на сложные игры безмятежных маленьких пациентов, любовные драмы лысеющих подростков и жуткие лица родителей, прощавшихся с прозрачными, тающими на солнце детьми. Вася любила оперу “Снегурочка”: на раскалённых докрасна газонах она обрастала современной плотью. Бог Ярило поджаривал онкомалышей на открытом огне жизни, готовя себе славный пир.
Но летней жатвы оказалось недостаточно, чтобы задобрить прожорливого бога. Беды начались с жестокой шутки молодых ординаторов. Те под покровом вечерних диагностических мероприятий стали оставлять друг другу послания на невинных спинах детей с дермографизмом. Например, ординаторка Женя брала специальную палочку и щекотно выводила на участке пониже задранной футболки с, например, тигрёнком: «Артём Валентинович, можно вас? Ж.». Дальше пациента отправляли, например, к Артёму Валентиновичу дабы тот осмотрел невинную спину, на которой к тому времени уже вздымались розовые шрамы послания. Тогда Артём Валентинович брал свою специальную палочку и отвечал ниже: «Идемте в моповую». Ребёнок возвращался туда, откуда пришёл, а Женя исчезала в моповой, уже переполненной швабрами и Артёмом Валентиновичем. Расцвет нового жанра пришёлся на тот самый момент, когда седой подросток Фрол, выйдя однажды из кабинета Жени, поскользнулся на бесхозном слайме и отключился. Из-под его задравшейся футболки выглянуло припухшее «пу?», которое при более внимательном осмотре дежурной медсестрой оказалось курсивным «В попу?». Вероятно, этот вопрос преследовал Фрола до самой смерти: он скончался, не приходя в сознание, беспомощный перед гемофилией и лопнувшим от падения геморроем. Артёма Валентиновича после инцидента отправили практиковаться на Северный полюс, а Женя осталась в отделении — оплакивать моповую. В темноте её горькие слёзы, сорвавшись с острого подбородка, глухо бились о дно алюминиевого ведра с клеймом «Г.ЕЙСК». До конца лета пол в отделении мыли 1%-м раствором хлорной извести и жениной лакримозы.
После смерти Фрола в отделении стал назревать бунт. Мальчики с паппулярной жемчужницей бойкотировали намаз вонючими составами. Девочки, увлекающиеся анорексией, по утрам стали отказываться от витаминок. Химпостеры, облысевшие после взрыва на Липецком заводе военных химикатов, перестали носить парики, принимать серные ванны и пользоваться презервативами — они твёрдо решили дать продолжение новой расе безволосых коротышек. По свидетельствам шестилетнего Микки Мауса с двумя большими опухолями мозга, три пары химпостеров даже сбежали через подкоп под Стеной у онкологического корпуса. О случае заявили в полицию, и вдоль Стены установили забор «Непоседа», чтобы не пугать симбирчан новыми поколениями мутантов. Наташа им завидовала:
— Я бы убежала! Почему они нас не позвали? Маман их всегда жалела, говорила, что нельзя над ними смеяться, что они бедные. Мы бы доплыли в Москву на паромах, там химпостеров много! Вась, есть курить?
— Последняя в пачке. Разделим?
В июле они стянули с сестринского поста пачку сигарет «Друг», брошенную Валерией на произвол судьбы, и продегустировали её у чёрного входа вместе с главврачом по имени Пётр. Пётр тогда научил их закусывать толстый фильтр с двух сторон и затягиваться по методу «Ишак»: вдох на «и», выдох на «шак». Напоследок он заявил, что «друг познаётся в беде», туго затянулся и запустил окурок в Космос. Окурок летел, виляя горящим хвостом, а Вася зажмурилась и загадала желание.
С диагнозом врачи не торопились. По понедельникам грешили на лишайники, во вторник винили вилочковую железу, в среду подозревали продукты полураспада желудочно-кишечного тракта, в четверг водили к мозгоправам, а по пятницам окончательно разводили руками, не в силах постичь природу происходящего на девочкином затылке. Там, в установленном месте образовался стабильная полянка колючих волосков длиной в миллиметр, которые для верности рекомендовали раз в неделю сбривать. Ежедневно Голый Пятачок щедро смазывался раствором неизвестного происхождения с примесью серебра и пихтового масла — пахнул он на удивление неплохо.
Со временем у девочки появились любимые врачи, друзья и недоброжелатели в среде санитарок и ординаторов. Особое восхищение у неё вызывала медсестра Валерия с короткой чёрной стрижкой, которая под халатом носила стальную кольчугу с круглым вырезом для правой груди. Оставаясь на ночное дежурство, в тёмный час она позволяла себе курить на пожарной лестнице. И порой надолго пропадала из спящего отделения, возвращаясь к рассвету посиневшей от усталости. По слухам она подрабатывала на старом ипподроме — отстреливала лошадей, взбесившихся от инъекций новейших препаратов. У Валерии была лёгкая рука, и во время регулярных заборов крови девочка разглядывала её лицо: острый орлиный нос, скомканная тушь на длинных ресницах и гипнотизирующие большие губы, закатанные в слой сливовой помады. Однажды во время ромашковой клизмы лацканы её халата изогнулись белой дугой, и девочке открылся серебристый кольчатый доспех.
— Чего сжимаешь? А, заметила? Это… я грудь на войне потеряла, — без горечи объяснила медсестра. — Ну, как потеряла. Отняли по молодости — я лучницей тогда служила в Шупашкаре. Принято так было. Спускайся, — она рыцарски подала девочке крепкую руку и подвела её к белому эмалированному судну.
Мама совсем перестала приезжать, и только изредка присылала смски, скупясь на слова, потому что за каждое слово приходилось платить по счетам в долларах. Пошли жаркие дни и грозовые ночи, сменявшиеся долгими зелёными днями. В воздухе так оглушительно пахло цветением, что крутило живот.
Этим летом она познакомилась с Наташей. Наташей оказалась молочная коровка, которую она встретила у кабинета в свой первый здешний день. Когда содержимое всех корпусов в солнечную погоду высыпа́ло на свежие газоны, она одна оставалась сидеть в угловатой тени здания.
— Привет! А что это у тебя за пятна? — сразу подошла и спросила девочка.
— Это витилиго, это как аллергия на солнце, — беззастенчиво ответила Наташа. В больнице было принято начинать знакомство с расспросов о болезнях, к этому быстро привыкали.
— Интересно, а у меня аллергия на всё, кроме солнца. Как тебя зовут?
— Наташа. А тебя?
— Вася.
— У меня так дедушку звали, он умер от осады.
— Мой тоже умер от досады. У тебя аллергия чешется?
Разговор быстро перетёк в доверительную гавань. Наташа оказалась из Москвы. Она похвасталась, что в Симбирск они с мамой добрались всего за пять дней: день на аэросанях, три на поезде, и сутки на большом атомном пароме. Наташа легко подбирала слова и вела диалог уверенно, но не жестоко. Вася не могла оторвать глаз от двух неправильных карамельных пятен на её коленках — как будто девочка-коровка бежала по огромной сковородке, споткнулась и упала. Пониже этих пятен из обшарпанных сандалий вырастали необыкновенные носки со старинными паровозами. Наташа лежала в ДКБ уже в третий раз, знала почти всех врачей, и рассказывала ужасные сплетни про гастроэнтеролога Людоедова, который однажды вместо желудка засунул катетер прямо в детское лёгкое. Ошибка вскрылась вместе с самим Мишей на секционном столе: ночью мальчик незаметно задохнулся. Васе эта история очень понравилась.
Этим летом она впервые не обгорела, не ходила с горячими румяными щеками, не соскабливала прозрачные шкурки с плеч. Всё время они проводили с Наташей под единственным каштаном на пригорке, откуда открывался вид на сложные игры безмятежных маленьких пациентов, любовные драмы лысеющих подростков и жуткие лица родителей, прощавшихся с прозрачными, тающими на солнце детьми. Вася любила оперу “Снегурочка”: на раскалённых докрасна газонах она обрастала современной плотью. Бог Ярило поджаривал онкомалышей на открытом огне жизни, готовя себе славный пир.
Но летней жатвы оказалось недостаточно, чтобы задобрить прожорливого бога. Беды начались с жестокой шутки молодых ординаторов. Те под покровом вечерних диагностических мероприятий стали оставлять друг другу послания на невинных спинах детей с дермографизмом. Например, ординаторка Женя брала специальную палочку и щекотно выводила на участке пониже задранной футболки с, например, тигрёнком: «Артём Валентинович, можно вас? Ж.». Дальше пациента отправляли, например, к Артёму Валентиновичу дабы тот осмотрел невинную спину, на которой к тому времени уже вздымались розовые шрамы послания. Тогда Артём Валентинович брал свою специальную палочку и отвечал ниже: «Идемте в моповую». Ребёнок возвращался туда, откуда пришёл, а Женя исчезала в моповой, уже переполненной швабрами и Артёмом Валентиновичем. Расцвет нового жанра пришёлся на тот самый момент, когда седой подросток Фрол, выйдя однажды из кабинета Жени, поскользнулся на бесхозном слайме и отключился. Из-под его задравшейся футболки выглянуло припухшее «пу?», которое при более внимательном осмотре дежурной медсестрой оказалось курсивным «В попу?». Вероятно, этот вопрос преследовал Фрола до самой смерти: он скончался, не приходя в сознание, беспомощный перед гемофилией и лопнувшим от падения геморроем. Артёма Валентиновича после инцидента отправили практиковаться на Северный полюс, а Женя осталась в отделении — оплакивать моповую. В темноте её горькие слёзы, сорвавшись с острого подбородка, глухо бились о дно алюминиевого ведра с клеймом «Г.ЕЙСК». До конца лета пол в отделении мыли 1%-м раствором хлорной извести и жениной лакримозы.
После смерти Фрола в отделении стал назревать бунт. Мальчики с паппулярной жемчужницей бойкотировали намаз вонючими составами. Девочки, увлекающиеся анорексией, по утрам стали отказываться от витаминок. Химпостеры, облысевшие после взрыва на Липецком заводе военных химикатов, перестали носить парики, принимать серные ванны и пользоваться презервативами — они твёрдо решили дать продолжение новой расе безволосых коротышек. По свидетельствам шестилетнего Микки Мауса с двумя большими опухолями мозга, три пары химпостеров даже сбежали через подкоп под Стеной у онкологического корпуса. О случае заявили в полицию, и вдоль Стены установили забор «Непоседа», чтобы не пугать симбирчан новыми поколениями мутантов. Наташа им завидовала:
— Я бы убежала! Почему они нас не позвали? Маман их всегда жалела, говорила, что нельзя над ними смеяться, что они бедные. Мы бы доплыли в Москву на паромах, там химпостеров много! Вась, есть курить?
— Последняя в пачке. Разделим?
В июле они стянули с сестринского поста пачку сигарет «Друг», брошенную Валерией на произвол судьбы, и продегустировали её у чёрного входа вместе с главврачом по имени Пётр. Пётр тогда научил их закусывать толстый фильтр с двух сторон и затягиваться по методу «Ишак»: вдох на «и», выдох на «шак». Напоследок он заявил, что «друг познаётся в беде», туго затянулся и запустил окурок в Космос. Окурок летел, виляя горящим хвостом, а Вася зажмурилась и загадала желание.

»
Об авторе
Диана Ковригина (Синяя Крыса) — чувашская писательница и поэтесса двадцати восьми лет. В 2022 году эмигрировала в Грузию.
Тут можно задонатить на работу журнала
Дорогой читатель, наш журнал можно поддержать с помощью лари и рублей.
Рублями - тут.
А лари - сюда:
Карта Georgian bank
GE30BG0000000365904931
Stanislav Gaivoronskii
Рублями - тут.
А лари - сюда:
Карта Georgian bank
GE30BG0000000365904931
Stanislav Gaivoronskii
