Вася
/Глава 2/
/Глава 2/
Продолжение романа-взросления Дианы Ковригиной с иллюстрациями Eli! и авторскими интертитрами
«
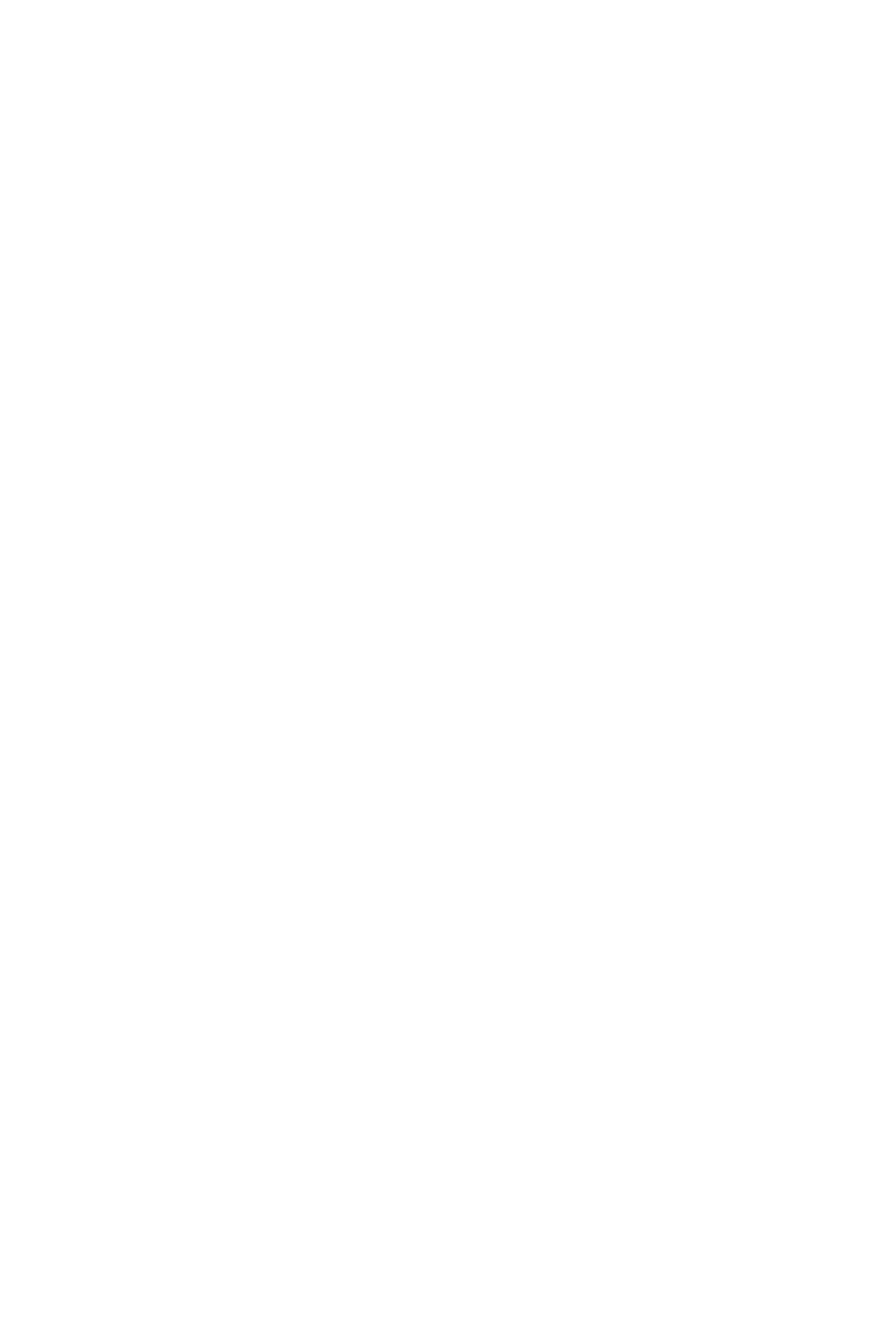
Иллюстрации: Eli!
Мощные кроны тополей, высушенные августовским солнцем и естественным порядком вещей, уже клонились в направлении косого дождя. После тёплого, грустного бабьего лета октябрь сёк ливнями территорию ДКБ с упоением садиста-барина и щипал ледяной пядью детей за их тощие задки, торчавшие из-под зипунов, пальтишек и курточек.
Настроения в отделении дерматологии усугублялись. Те, кто не успел ни выздороветь, ни скончаться под надзором ясна солнышка, теперь слонялись мимо неубиваемых пальм по плохо освещённым коридорам. Девочки по очереди плакали в туалетах. Мальчики страшно дрались. В редкий тайм-аут на ринг выплывала уборщица: она долго и небрезгливо размазывала по линолеуму смесь из стеклянной крошки и алой мальчишеской крови, после чего схватка самцов продолжалась. Вася и Наташа наблюдали за поединками, сидя на измученном диване: когда-то он был плюшевым, но годы больничной жизни откусили от него всё хорошее, оставив лишь металлический скелет с деревянными ручками.
В Ночь всех святых выпал первый снежок. Было его совсем немного, и ему в отделении не обрадовался никто, кроме кучки детей десяти-двенадцати лет. Вася порой была свидетельницей их странных игр, которые со временем становились всё более запутанными и мрачными. В промозглой вечерней мгле худые тельца, поджав колени, усаживались в круг прямо на мокрый, ледяной асфальт. Сутулые, похожие на служителей тайного культа, они играли в зловещую, молчаливую “бутылочку” из-под физраствора, с правилами, непонятными непосвящённой Васе. Указанная пара детей обычно разыгрывала четыре сценария: в основном они дрожали и вдумчиво целовались, реже брались за руки и глотали маленькие белые таблетки, иногда остервенело душили друг друга до обморочного кайфа, и в исключительных случаях обречённо шли куда-то в непроходимую темноту — тогда новый раунд раскручивания стеклянного сосуда начинался без них. Наташа дослушала васин рассказ и одобрительно пояснила:
— Отрываются перед резнёй.
В ДКБ, как и в иных известных органах, действовала негласная норма по оперативным мероприятиям. Норма эта под конец года, как правило, оказывалась невыполненной, и приглашения в операционный блок начинали раздавать пачками, иногда вместе с приглашениями на Ëлку. Рассказы о посещении хирургов, об их жутких маленьких дрелях и забрызганных кровью потолках наполняли боксы, коридоры, процедурные, туалеты и курилку у чёрного входа.
Нового года ждали и боялись, к нему готовились. Самые опытные предупреждали, что из операционных вернутся не все. Самые наивные саботировали “мероприятия”, а потому были закатаны в смирительные рубашки и закапаны смирительными каплями. Самые смелые попадали в ведомости с пометкой “неявка по причине причинения своему здоровью непоправимого вреда путём суицида”.
Пятого декабря зашагал добрый пушистый снег. Он нарядно укрыл молочно-шоколадную землю, серые здания и толстые голубые ели. Путаные вороньи следы нервных пациентов рыхло пересекали ровные колеи, всегда ведущие в Рим, то есть в морг. У морга лениво топтались патологоанатомы, курившие сигареты “Друг” со знанием дела. Наташа рассказала Васе, что внутри своего морозильного царства они с позволения главврача оборудовали баню, чтобы отогреваться.
В предбаннике стыла анисовая водка, красные горлышки бутылок возвышались над ведёрками со льдом, как вулканы Тихоокеанского огненного кольца.
— Мар-руся! — вежливо прикрикнул с морозу главврач Пётр в открытую дверь, пышно отделанную стёганым поролоном. Одной правой он вкатил внутрь тележку, накрытую чёрной материей. Навстречу ему вышла распаренная патологоанатоминя. Её покатые плечи дымились, налитые груди готовы были разорвать махровое банное полотенце в клочья. — Голубушка, посмотрите в́ы нового, сердце остановилось на столе.
— Пётр Яковлевич, ну вы вовремя! Проходите, — хохотливая Маруся махнула рукой на некое подобие стула, собранного из больничного хлама с прозекторским чувством юмора. Квадратное, обтянутое красной кожей сиденье покоилось на четырёх ножных протезах, иллюстрирующих послевоенную эволюцию медицины.
Маруся деловито прошла в предбанник и стала надевать хрустящие чистые трусы, не прикрыв за собой занавески.
— Пётр Яковлевич, не смотрите.
Пётр не смотрел — он уже двигался по направлению к нагой великанше, и его твёрдые ноги неумолимо бурили сужающееся пространство. Маруся молча застёгивала халат. Её соски непонимающе упирались в белую, ненужную хлопковую тюрьму. Пётр объял большое тело со спины, захватил длинные женские ладони с купеческими пальцами, и они вместе стали возиться с пуговицами, в четыре руки освобождая Марусю из грубого плена медицинской униформы.
— Ты очень вовремя, — жарко выдохнула Маруся, когда фурнитура на халате закончилась. Но вдруг высвободилась, коротко пробежалась, голая, с женским усилием закатила свежий труп в холодильник, и захлопнула блестящую дверь своим могучим бедром — так бойко, что большие её груди закачались, как царь-колокола нового Благовещенского собора, — и, прохладно-горячая, вернулась в предбанник.
Так закалялась сталь!
***
Близился полдник. Вася брела мимо сумеречных елей. Левой рукой она теребила колючую, коричневую даже на ощупь шапку в кармане своей замусоленной шубки, а правой поглаживала холодную лысинку на затылке. Пятачком её называла только Валерия, остальные говорили “очаг алопеции”. Васе представлялось нечто среднее между голубоглазым журналом “Домашний очаг” и невкусной “Алло! Пиццей” с чесночным соусом.
Средний палец шаркал по шершавой проплешинке под “Русский вальс” Шостаковича, который незаметно мычал у Васи во рту. Партия печального кларнета бесконечно гуляла по кругу, увлекая за собой податливое детское сознание.
Русская зима! Пряничная, блестящая, голубая на старых картинках; пугающая, чёрная, промозглая наяву. Как они на санях ездили в минус тридцать? На бал, девочки маленькие, в пуховых шалях, без термобелья, в неудобных платьях с открытыми плечиками — по три, четыре часа на морозе, на ветру. Извозчик лохматый, кони какают прямо на ходу, а я сейчас буду танцевать с мальчиками. Пальцы на ногах уже болят от холода, но трясусь — от волнения. В животе всё переворачивается, будет большой холодный зал сначала, потом надышим все вместе во время польки, вспотеем даже, но сначала будет очень холодно и страшно, как в гимнастическом зале перед тренировкой. Купальник чёрный и носочки чёрные, а волосы надо убрать в пучок, можно некрасивый, а так хочется скакать приставным шагом с распущенными волосами, чтобы они тоже скакали, чтобы мы скакали. На балу меня бы никто не пригласил на медляк, это как признаться в любви. Вот бы меня пригласил седой Фрол. Он умер, совсем как взрослый. Я хотела плакать у его гроба, чтобы все узнали, что я его любила, и чтобы он тоже узнал. А гроб не вынесли, я поэтому не плакала. Может, он и не умер. Он как княжна Джаваха, только Наташа моя княжна, и я буду плакать, когда она умрёт, и у меня будут слёзы, я буду сильно красиво плакать. Когда Наташа умрёт, я уже буду знать, как нужно плакать.
Фонарей не зажигали. Васин взгляд как беспризорный пойнтер то припадал к дорожке, укрытой снегом, то принимался кусать низкие ветки, отяжелевшие от белизны. Близился полдник, на нём обещали кормить молочными коржиками. Если стукнуть таким по столешнице, он разлетится в мельчайшую сдобную фракцию. Этот фокус ей однажды показал Фрол. Вася расстраивалась, когда на полдник давали окаменелый коржик, который требовалось вымачивать в чае с привкусом кастрюли, поэтому она брела мимо сумеречных елей прочь от столовой, надеясь не встретить главврача. Пётр не любил, когда девочки пропускали приёмы пищи: в его послевоенной, по-медицински простой космогонии плодородные женщины занимали почётное единственное место. Им он хотел скормить весь оставшийся мир.
В густеющей серости, освещённой снегом, Васе мерещился тёмный человечий образ. Однажды ей это уже снилось: вот она идёт по чёрно-белому зимнему лесу, хочет сориентироваться по солнцу, как учила мама, но солнца нигде нет, и свет — не свет, а только отсутствие тьмы. Вдалеке стоит громоздкий чёрный дядя, Вася идёт к нему сквозь страх и тяжело увязает в сугробах, повинуясь кошмарной гравитации сна. Уже ясно, что этот дядя — чёрт. Не такой, как в каталоге Каслинского литья на даче у бабушки — настоящий чёрт. Вася проснулась тогда в своей детской кроватке. Из-за бортика на неё смотрел кот Мерзик, стоя на задних лапах. По его лицу Вася поняла, что кот всё про неё знает, и пообещала себе больше никогда его не хватать за хвост и не стукать по спине. На пластмассовых настенных часах большая стрелка стояла у цифры IV. Вася попробовала определить время, но опять забыла, в какую сторону надо считать.
Тёмный призрак, приближаясь, обретал человеческую плотность и знакомую эксцентричную манеру. Так полушла-полубежала Наташа. На аллее вдруг врубили все фонари разом, и в их ледяном хирургическом свете всё странное, вечное и чудовое обернулось ясным карцером, а от Шостаковича во рту остался один 1938-й год.
— Наташа! Наташа!!! — Вася осторожно побежала навстречу, стараясь не поскользнуться.
— Вася!! — Наташа забарабанила сквозь одышку — В морге пожар! В бане печь. Оглм. Обвалилась! Огонь уже на техкропус. На техкорпус перекинулся! Там хэ-э-э-э жесть. Женщина голая плачет. Мужчины горят, по грязи катаются…
Вася сразу представила себя на месте горящих мужчин и голой женщины. Когда кому-то живому было больно в новостях или в книгах, Вася тут же примеряла на себя чужую боль: представляла, как ей отрезает ноги поездом, как её тело перемалывает во рту громадный гиппопотам, как её бесконечно пытают утюгом какие-то воры. Больше всего её пугал этот утюг из видеоальманаха “Следствие вели…”, который они по многу раз пересматривали вместе с дедом. Воры с утюгами и маньяки, которые отрезали детям кончики языка и соски.
От волос за ушами в самый низ васиной утробы опустилась дрожь, завязавшись в крепкий узел в районе паха.
Сердце стучало мясистое staccato, и Васе казалось, что внутри неё маленькие мышки бегают вниз и вверх по винтовой лестнице.
Настроения в отделении дерматологии усугублялись. Те, кто не успел ни выздороветь, ни скончаться под надзором ясна солнышка, теперь слонялись мимо неубиваемых пальм по плохо освещённым коридорам. Девочки по очереди плакали в туалетах. Мальчики страшно дрались. В редкий тайм-аут на ринг выплывала уборщица: она долго и небрезгливо размазывала по линолеуму смесь из стеклянной крошки и алой мальчишеской крови, после чего схватка самцов продолжалась. Вася и Наташа наблюдали за поединками, сидя на измученном диване: когда-то он был плюшевым, но годы больничной жизни откусили от него всё хорошее, оставив лишь металлический скелет с деревянными ручками.
В Ночь всех святых выпал первый снежок. Было его совсем немного, и ему в отделении не обрадовался никто, кроме кучки детей десяти-двенадцати лет. Вася порой была свидетельницей их странных игр, которые со временем становились всё более запутанными и мрачными. В промозглой вечерней мгле худые тельца, поджав колени, усаживались в круг прямо на мокрый, ледяной асфальт. Сутулые, похожие на служителей тайного культа, они играли в зловещую, молчаливую “бутылочку” из-под физраствора, с правилами, непонятными непосвящённой Васе. Указанная пара детей обычно разыгрывала четыре сценария: в основном они дрожали и вдумчиво целовались, реже брались за руки и глотали маленькие белые таблетки, иногда остервенело душили друг друга до обморочного кайфа, и в исключительных случаях обречённо шли куда-то в непроходимую темноту — тогда новый раунд раскручивания стеклянного сосуда начинался без них. Наташа дослушала васин рассказ и одобрительно пояснила:
— Отрываются перед резнёй.
В ДКБ, как и в иных известных органах, действовала негласная норма по оперативным мероприятиям. Норма эта под конец года, как правило, оказывалась невыполненной, и приглашения в операционный блок начинали раздавать пачками, иногда вместе с приглашениями на Ëлку. Рассказы о посещении хирургов, об их жутких маленьких дрелях и забрызганных кровью потолках наполняли боксы, коридоры, процедурные, туалеты и курилку у чёрного входа.
Нового года ждали и боялись, к нему готовились. Самые опытные предупреждали, что из операционных вернутся не все. Самые наивные саботировали “мероприятия”, а потому были закатаны в смирительные рубашки и закапаны смирительными каплями. Самые смелые попадали в ведомости с пометкой “неявка по причине причинения своему здоровью непоправимого вреда путём суицида”.
Пятого декабря зашагал добрый пушистый снег. Он нарядно укрыл молочно-шоколадную землю, серые здания и толстые голубые ели. Путаные вороньи следы нервных пациентов рыхло пересекали ровные колеи, всегда ведущие в Рим, то есть в морг. У морга лениво топтались патологоанатомы, курившие сигареты “Друг” со знанием дела. Наташа рассказала Васе, что внутри своего морозильного царства они с позволения главврача оборудовали баню, чтобы отогреваться.
В предбаннике стыла анисовая водка, красные горлышки бутылок возвышались над ведёрками со льдом, как вулканы Тихоокеанского огненного кольца.
— Мар-руся! — вежливо прикрикнул с морозу главврач Пётр в открытую дверь, пышно отделанную стёганым поролоном. Одной правой он вкатил внутрь тележку, накрытую чёрной материей. Навстречу ему вышла распаренная патологоанатоминя. Её покатые плечи дымились, налитые груди готовы были разорвать махровое банное полотенце в клочья. — Голубушка, посмотрите в́ы нового, сердце остановилось на столе.
— Пётр Яковлевич, ну вы вовремя! Проходите, — хохотливая Маруся махнула рукой на некое подобие стула, собранного из больничного хлама с прозекторским чувством юмора. Квадратное, обтянутое красной кожей сиденье покоилось на четырёх ножных протезах, иллюстрирующих послевоенную эволюцию медицины.
Маруся деловито прошла в предбанник и стала надевать хрустящие чистые трусы, не прикрыв за собой занавески.
— Пётр Яковлевич, не смотрите.
Пётр не смотрел — он уже двигался по направлению к нагой великанше, и его твёрдые ноги неумолимо бурили сужающееся пространство. Маруся молча застёгивала халат. Её соски непонимающе упирались в белую, ненужную хлопковую тюрьму. Пётр объял большое тело со спины, захватил длинные женские ладони с купеческими пальцами, и они вместе стали возиться с пуговицами, в четыре руки освобождая Марусю из грубого плена медицинской униформы.
— Ты очень вовремя, — жарко выдохнула Маруся, когда фурнитура на халате закончилась. Но вдруг высвободилась, коротко пробежалась, голая, с женским усилием закатила свежий труп в холодильник, и захлопнула блестящую дверь своим могучим бедром — так бойко, что большие её груди закачались, как царь-колокола нового Благовещенского собора, — и, прохладно-горячая, вернулась в предбанник.
Так закалялась сталь!
***
Близился полдник. Вася брела мимо сумеречных елей. Левой рукой она теребила колючую, коричневую даже на ощупь шапку в кармане своей замусоленной шубки, а правой поглаживала холодную лысинку на затылке. Пятачком её называла только Валерия, остальные говорили “очаг алопеции”. Васе представлялось нечто среднее между голубоглазым журналом “Домашний очаг” и невкусной “Алло! Пиццей” с чесночным соусом.
Средний палец шаркал по шершавой проплешинке под “Русский вальс” Шостаковича, который незаметно мычал у Васи во рту. Партия печального кларнета бесконечно гуляла по кругу, увлекая за собой податливое детское сознание.
Русская зима! Пряничная, блестящая, голубая на старых картинках; пугающая, чёрная, промозглая наяву. Как они на санях ездили в минус тридцать? На бал, девочки маленькие, в пуховых шалях, без термобелья, в неудобных платьях с открытыми плечиками — по три, четыре часа на морозе, на ветру. Извозчик лохматый, кони какают прямо на ходу, а я сейчас буду танцевать с мальчиками. Пальцы на ногах уже болят от холода, но трясусь — от волнения. В животе всё переворачивается, будет большой холодный зал сначала, потом надышим все вместе во время польки, вспотеем даже, но сначала будет очень холодно и страшно, как в гимнастическом зале перед тренировкой. Купальник чёрный и носочки чёрные, а волосы надо убрать в пучок, можно некрасивый, а так хочется скакать приставным шагом с распущенными волосами, чтобы они тоже скакали, чтобы мы скакали. На балу меня бы никто не пригласил на медляк, это как признаться в любви. Вот бы меня пригласил седой Фрол. Он умер, совсем как взрослый. Я хотела плакать у его гроба, чтобы все узнали, что я его любила, и чтобы он тоже узнал. А гроб не вынесли, я поэтому не плакала. Может, он и не умер. Он как княжна Джаваха, только Наташа моя княжна, и я буду плакать, когда она умрёт, и у меня будут слёзы, я буду сильно красиво плакать. Когда Наташа умрёт, я уже буду знать, как нужно плакать.
Фонарей не зажигали. Васин взгляд как беспризорный пойнтер то припадал к дорожке, укрытой снегом, то принимался кусать низкие ветки, отяжелевшие от белизны. Близился полдник, на нём обещали кормить молочными коржиками. Если стукнуть таким по столешнице, он разлетится в мельчайшую сдобную фракцию. Этот фокус ей однажды показал Фрол. Вася расстраивалась, когда на полдник давали окаменелый коржик, который требовалось вымачивать в чае с привкусом кастрюли, поэтому она брела мимо сумеречных елей прочь от столовой, надеясь не встретить главврача. Пётр не любил, когда девочки пропускали приёмы пищи: в его послевоенной, по-медицински простой космогонии плодородные женщины занимали почётное единственное место. Им он хотел скормить весь оставшийся мир.
В густеющей серости, освещённой снегом, Васе мерещился тёмный человечий образ. Однажды ей это уже снилось: вот она идёт по чёрно-белому зимнему лесу, хочет сориентироваться по солнцу, как учила мама, но солнца нигде нет, и свет — не свет, а только отсутствие тьмы. Вдалеке стоит громоздкий чёрный дядя, Вася идёт к нему сквозь страх и тяжело увязает в сугробах, повинуясь кошмарной гравитации сна. Уже ясно, что этот дядя — чёрт. Не такой, как в каталоге Каслинского литья на даче у бабушки — настоящий чёрт. Вася проснулась тогда в своей детской кроватке. Из-за бортика на неё смотрел кот Мерзик, стоя на задних лапах. По его лицу Вася поняла, что кот всё про неё знает, и пообещала себе больше никогда его не хватать за хвост и не стукать по спине. На пластмассовых настенных часах большая стрелка стояла у цифры IV. Вася попробовала определить время, но опять забыла, в какую сторону надо считать.
Тёмный призрак, приближаясь, обретал человеческую плотность и знакомую эксцентричную манеру. Так полушла-полубежала Наташа. На аллее вдруг врубили все фонари разом, и в их ледяном хирургическом свете всё странное, вечное и чудовое обернулось ясным карцером, а от Шостаковича во рту остался один 1938-й год.
— Наташа! Наташа!!! — Вася осторожно побежала навстречу, стараясь не поскользнуться.
— Вася!! — Наташа забарабанила сквозь одышку — В морге пожар! В бане печь. Оглм. Обвалилась! Огонь уже на техкропус. На техкорпус перекинулся! Там хэ-э-э-э жесть. Женщина голая плачет. Мужчины горят, по грязи катаются…
Вася сразу представила себя на месте горящих мужчин и голой женщины. Когда кому-то живому было больно в новостях или в книгах, Вася тут же примеряла на себя чужую боль: представляла, как ей отрезает ноги поездом, как её тело перемалывает во рту громадный гиппопотам, как её бесконечно пытают утюгом какие-то воры. Больше всего её пугал этот утюг из видеоальманаха “Следствие вели…”, который они по многу раз пересматривали вместе с дедом. Воры с утюгами и маньяки, которые отрезали детям кончики языка и соски.
От волос за ушами в самый низ васиной утробы опустилась дрожь, завязавшись в крепкий узел в районе паха.
Сердце стучало мясистое staccato, и Васе казалось, что внутри неё маленькие мышки бегают вниз и вверх по винтовой лестнице.
Еловая аллея была длинной, аккуратной, светлой и чистой, а хлорированный воздух наполнялся небольничной суетой. Наташа схватилась за Васину руку.
— Васька… Давай убежим? Давай убежим сейчас?
— Куда?.. — Вася почувствовала, что потеряла нужную строчку и безнадёжно отстала от класса на уроке чтения.
— Ко мне, в Москву. — Наташины глаза засияли нефтяным блеском и особой верой. Так на Васю раньше смотрели только малыши-олигофрены, описавшись в очереди к психиатру.
— Что? Нет! Через “Непоседу”? Через кордон?
— Мы осторожно. Я знаю, где лезть.
— Нет! У нас даже денег нет! — Вася взмолилась в невидимую даль.
Мышки на винтовой лестнице замерли.
Наташа достала из шуршащего кармана куртки мятый жёлтый листок и протянула Васе.
Мышата внутри снова зашевелились.
Под пирамидой, составленной из больших букв,
— Васька… Давай убежим? Давай убежим сейчас?
— Куда?.. — Вася почувствовала, что потеряла нужную строчку и безнадёжно отстала от класса на уроке чтения.
— Ко мне, в Москву. — Наташины глаза засияли нефтяным блеском и особой верой. Так на Васю раньше смотрели только малыши-олигофрены, описавшись в очереди к психиатру.
— Что? Нет! Через “Непоседу”? Через кордон?
— Мы осторожно. Я знаю, где лезть.
— Нет! У нас даже денег нет! — Вася взмолилась в невидимую даль.
Мышки на винтовой лестнице замерли.
Наташа достала из шуршащего кармана куртки мятый жёлтый листок и протянула Васе.
Мышата внутри снова зашевелились.
Под пирамидой, составленной из больших букв,
ПАМЯТКА
ПАЦИЕНТУ
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
акварельно расползалось Васино имя. Сердце забилось с мощностью фабричной машины, и мысли мгновенно выстроились по росту: от самой низкой “тупо умирать девственницей” до самой высокой “мы убежим в Москву и станем крутыми”. Вася сообразила:
— У нас нет денег, а у Дедмиши есть! У него дом в Кротовке, это тут рядом.
— Это он умер от грусти?
— Другой дед, живой.
— Хороший? Не выдаст?
— Не должен. Он шесть лет в речфлоте служил, без правой руки остался, баашка от него ушла, но меня любит. Конфеты «Мишки на истребителе» присылает, один раз медовухой напоил, мы потом с Пузиком собачий вальс танцевали…
— Давай к нему. Дорогу знаешь?
Вася помнила пятнадцатый автобус, возивший её по одному и тому же расписанию всё детство, до баашки с дедом и обратно. На плохо заплатанном, комковатом шоссе автобус трясло так, что Васю даже не тошнило, поэтому долгая дорога мимо коров, старых танков и колоколен ей очень нравилась. Только было это давным-давно — современные малыши, может, и не представляют, как выглядит “автобус”. Вася оглянулась на больничный город, в котором прожила полгода, а может пол жизни.
— Примерно знаю.
Земля под ногами вдруг затряслась, будто потревоженная гигантской медведкой, а через полсекунды что-то страшно ухнуло в сердце. Васе показалось, что её разорвало на крупные куски, которые разлетелись по всем континентам — одна только голова осталась на месте, пригвождённая острым ультразвуком. Открыв глаза, она с облегчением обнаружила себя целой; Наташа, тоже целая, лежала рядом, раскинув необутые ноги по перегнившей траве. Её красные резиновые сапоги смешно торчали метрах в пяти. Вася кое-как приподнялась на коленках и подползла к Наташе; перегной ватно хлюпал в оглохших ушах. Наташа вдруг тоже ожила, приподнялась на локтях и молча завертела головой.
Сквозь груду камня и арматуры, которая пять или десять или пятнадцать минут назад была техблоком, в воздух били три высоких столба огня. Разрушительная, злая красота пламени очаровывала и заставляла на себя смотреть. Васе всё это казалось настолько невозможным, что захотелось смеяться. Она посмотрела на Наташу, на ее красно торчащие из глиняной каши сапожки, и хихикнула. Подруга ответила ей беззвучным смешком. Их обеих вдруг скрутил хохот, доносившийся как будто из далекого моря внутри большой ракушки. От смеха заболел пресс и свело щёки. Наташа, то и дело приседая, на четвереньках подползла к своим сапожкам и теперь пыталась натянуть их прямо на измазанные чернотой носки. Васе едва удавалось подняться, как она снова плюхалась в зыбкую грязь.
— Тьево слящи га… — наташины слова сбились в плотный колтун.
— Чего…?
— Веселящий… газ… мать его! — воздушные шары в васиных ушах лопнули, допустив до слухового нерва наташин голос и все звуки катастрофы сразу. Человеческие крики тонули, барахтаясь в волнах шипения, треска и сирен, но этому разбушевавшемуся оркестру не удавалось заглушить неугасающий, сухой шёпот огня.
Навалившись друг на друга, девочки кое-как поднялись на ноги. Икая от смеха, они поплелись в противоположную от катастрофы сторону. Вдалеке сквозь сероватые кроны мистических тополей просвечивала монолитная, бесконечная, белоснежная полоса, грубо освещённая прожекторами. Стена.
Когда концентрированная весёлка развеялась в атмосфере, эйфория сменилась головной болью и полным бессилием. Девочки бежали на заплетающихся ногах, иногда переходя на шаг, а Стена упрямо не двигалась с места, не приближалась, как берег, вечно удаляющийся от неопытного пловца. Из-за Стены долетал безразличный собачий лай. “Деревенские”, — подумалось Васе. Она представила, что вот-вот окажется за забором, рядом с добрыми деревенскими псами, рядом с дедом, которого так удобно обнимать за тёплый безрукий бок.
Как здорово было провести с ним целое лето. Васе тогда исполнилось шесть лет. Они ходили в лес за малиной с совсем ещё маленьким и глупым Пузиком, а после все вместе ели сублимированный суп-пюре из одинаковых пластмассовых мисок. И на подоконнике у деда всегда лежали громадные американские яблоки, которые он откуда-то приносил по четвергам. Васе они очень нравились: такие бордовые, неподатливые, солоновато-сладкие.
Лай перешёл в crescendo, и Васино сердце быстрее ног побежало навстречу сытому хору деревенских дворняг, которых сильно любили, раз не съели даже в прошлогодний голод.
Интересно, как там Пузик…
Дыхание удобно ложилось на четыре четверти собачьего вальса:
— У нас нет денег, а у Дедмиши есть! У него дом в Кротовке, это тут рядом.
— Это он умер от грусти?
— Другой дед, живой.
— Хороший? Не выдаст?
— Не должен. Он шесть лет в речфлоте служил, без правой руки остался, баашка от него ушла, но меня любит. Конфеты «Мишки на истребителе» присылает, один раз медовухой напоил, мы потом с Пузиком собачий вальс танцевали…
— Давай к нему. Дорогу знаешь?
Вася помнила пятнадцатый автобус, возивший её по одному и тому же расписанию всё детство, до баашки с дедом и обратно. На плохо заплатанном, комковатом шоссе автобус трясло так, что Васю даже не тошнило, поэтому долгая дорога мимо коров, старых танков и колоколен ей очень нравилась. Только было это давным-давно — современные малыши, может, и не представляют, как выглядит “автобус”. Вася оглянулась на больничный город, в котором прожила полгода, а может пол жизни.
— Примерно знаю.
Земля под ногами вдруг затряслась, будто потревоженная гигантской медведкой, а через полсекунды что-то страшно ухнуло в сердце. Васе показалось, что её разорвало на крупные куски, которые разлетелись по всем континентам — одна только голова осталась на месте, пригвождённая острым ультразвуком. Открыв глаза, она с облегчением обнаружила себя целой; Наташа, тоже целая, лежала рядом, раскинув необутые ноги по перегнившей траве. Её красные резиновые сапоги смешно торчали метрах в пяти. Вася кое-как приподнялась на коленках и подползла к Наташе; перегной ватно хлюпал в оглохших ушах. Наташа вдруг тоже ожила, приподнялась на локтях и молча завертела головой.
Сквозь груду камня и арматуры, которая пять или десять или пятнадцать минут назад была техблоком, в воздух били три высоких столба огня. Разрушительная, злая красота пламени очаровывала и заставляла на себя смотреть. Васе всё это казалось настолько невозможным, что захотелось смеяться. Она посмотрела на Наташу, на ее красно торчащие из глиняной каши сапожки, и хихикнула. Подруга ответила ей беззвучным смешком. Их обеих вдруг скрутил хохот, доносившийся как будто из далекого моря внутри большой ракушки. От смеха заболел пресс и свело щёки. Наташа, то и дело приседая, на четвереньках подползла к своим сапожкам и теперь пыталась натянуть их прямо на измазанные чернотой носки. Васе едва удавалось подняться, как она снова плюхалась в зыбкую грязь.
— Тьево слящи га… — наташины слова сбились в плотный колтун.
— Чего…?
— Веселящий… газ… мать его! — воздушные шары в васиных ушах лопнули, допустив до слухового нерва наташин голос и все звуки катастрофы сразу. Человеческие крики тонули, барахтаясь в волнах шипения, треска и сирен, но этому разбушевавшемуся оркестру не удавалось заглушить неугасающий, сухой шёпот огня.
Навалившись друг на друга, девочки кое-как поднялись на ноги. Икая от смеха, они поплелись в противоположную от катастрофы сторону. Вдалеке сквозь сероватые кроны мистических тополей просвечивала монолитная, бесконечная, белоснежная полоса, грубо освещённая прожекторами. Стена.
Когда концентрированная весёлка развеялась в атмосфере, эйфория сменилась головной болью и полным бессилием. Девочки бежали на заплетающихся ногах, иногда переходя на шаг, а Стена упрямо не двигалась с места, не приближалась, как берег, вечно удаляющийся от неопытного пловца. Из-за Стены долетал безразличный собачий лай. “Деревенские”, — подумалось Васе. Она представила, что вот-вот окажется за забором, рядом с добрыми деревенскими псами, рядом с дедом, которого так удобно обнимать за тёплый безрукий бок.
Как здорово было провести с ним целое лето. Васе тогда исполнилось шесть лет. Они ходили в лес за малиной с совсем ещё маленьким и глупым Пузиком, а после все вместе ели сублимированный суп-пюре из одинаковых пластмассовых мисок. И на подоконнике у деда всегда лежали громадные американские яблоки, которые он откуда-то приносил по четвергам. Васе они очень нравились: такие бордовые, неподатливые, солоновато-сладкие.
Лай перешёл в crescendo, и Васино сердце быстрее ног побежало навстречу сытому хору деревенских дворняг, которых сильно любили, раз не съели даже в прошлогодний голод.
Интересно, как там Пузик…
Дыхание удобно ложилось на четыре четверти собачьего вальса:
Ля-ля-ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав-гав!
Ля-ля-ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав!
Ля. Гав-гав!
Простая и приятная мелодия удивительно преобразила общую какофонию, и опера-катастрофа переехала в жанр немой чёрно-белой комедии с весёлым аккомпанементом пианиста-тапёра. Кадр прерывался интертитрами в витиеватой рамке:

Сердце в сюртуке отбивало степ блестящими каблучками. Девочки смешно бежали со скоростью тридцать кадров в секунду, по очереди небольно падали на попки, затем подскакивали, как ужаленные зайчики, и снова бежали. Наташа ворчала, сердито сдвинув брови:
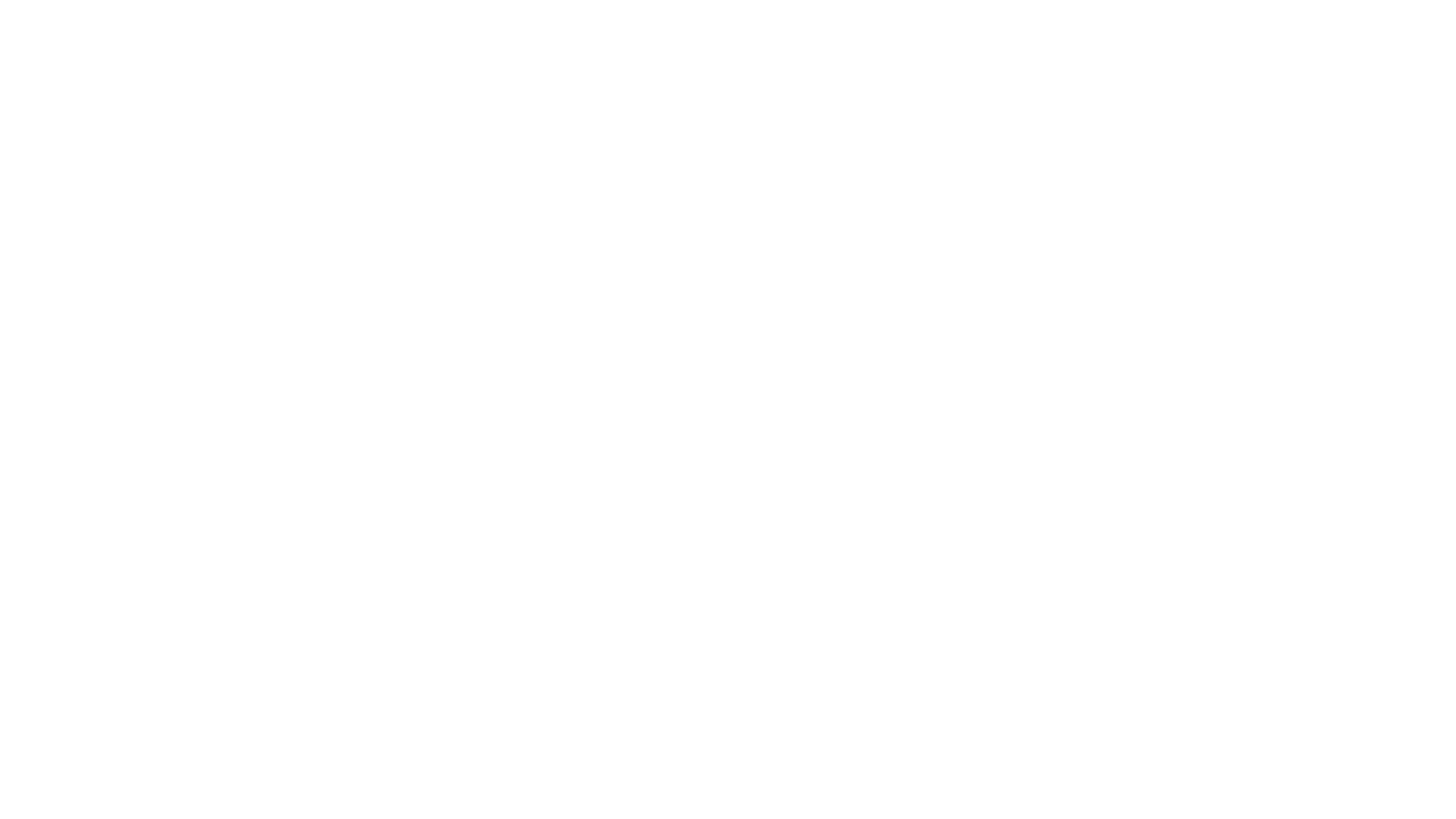
— оживлённо хлопала ртом Вася, подняв бровки, а потом залилась коротким смехом. Картонный месяц на тёмной ткани неба с маленькими дырочками-звездочками скрылся за нарисованными облаками.
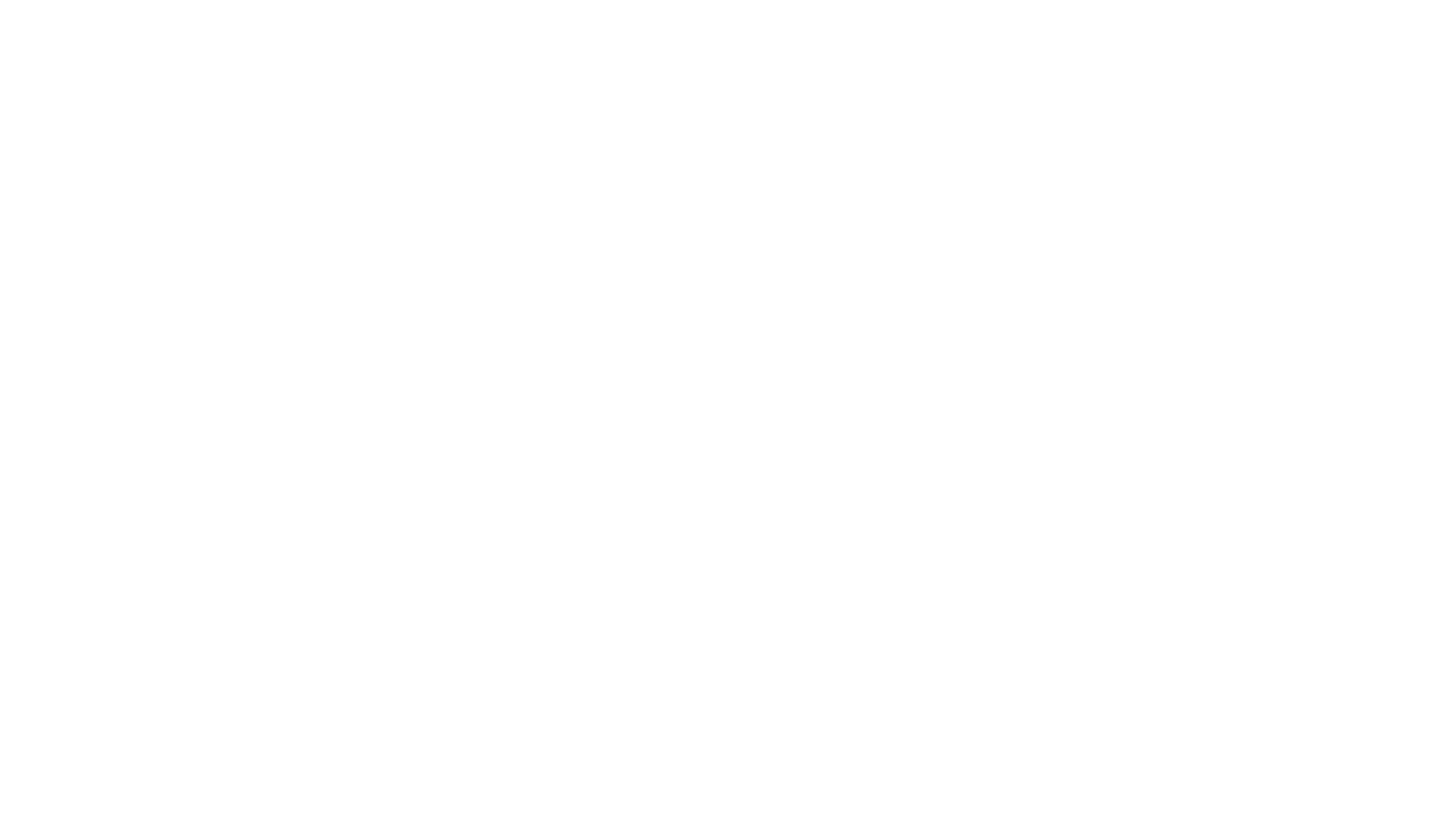
Девочки смотрели вверх, опасливо открывая ротики. Встревоженная стая ворон поднялась в воздух и закружила над их головами. Вдруг Наташа схватила Васю за руку и притянула палец к губам, вытаращив густо подведённые глаза. Беглянки оглянулись: в кадре грозно вырос лысый бюст вождя мирового пролетариата со сбитым носом, венчавший пригорок заброшенного больничного крыла.
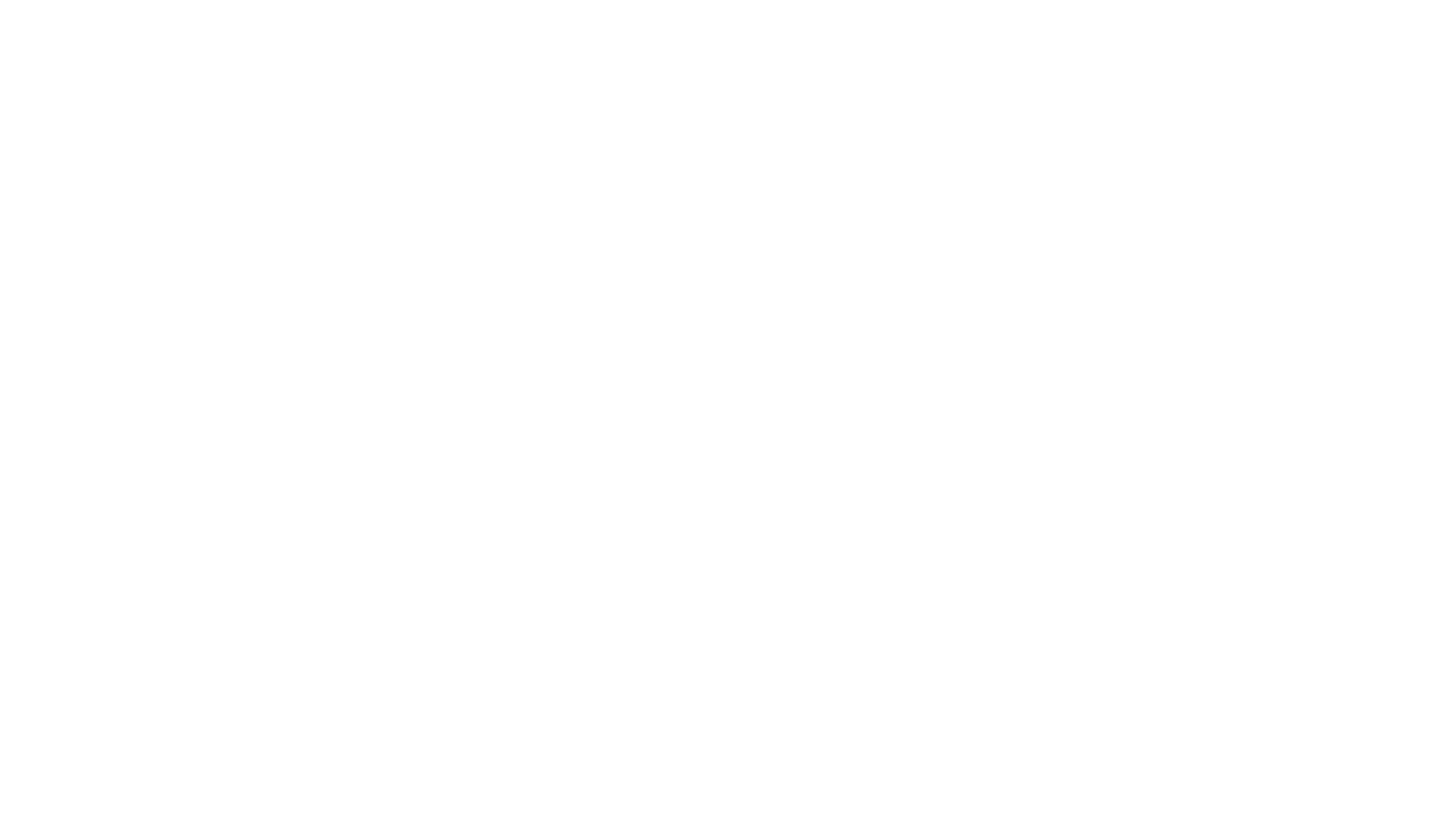
Сердце васино сбилось с галопа, вмиг повалившись на земь, да так и осталось лежать в сырой траве где-то позади. За весь оркестр теперь отдувались лёгкие, сокращаясь в такт синкопальному ритму: хэ х-у-у-у хэ х-у-у-у хэ ху-у.
Волкодав Ленин всегда грандиозно лежал у поста охраны, заглядывая проходящим в глаза. За годы прилежной службы он снискал славу “большой и страшной собаки, которая никогда никого не кусала”. Волкодав либо вылаивал посетителей, по незнанию или с умыслом не заказавших пропуск на территорию больницы заблаговременно, либо могуче храпел во сне. Теперь же страшный Ленин, позабыв своё доброе имя, длинными мохнатыми прыжками нагонял деточек. Вася с Наташей помчались молча, стараясь обогнать друг друга.
Хэ-хэ
Х-у-у-у-у
Хэ-хэ
Х-у-у-у-у
Ленин тоже больше не лаял, а только астматически дышал им в спины. В октябре ему исполнилось тринадцать лет, то есть сто по человеческим меркам. Седина в бороду — бес в ребро. Так говорила бабушка, потрясая дедмишиным паспортом, пока сам Дедмиша пьяно продирался сквозь неё в туалет, не разуваясь.
Хэ-хэ ху-ху-хуу
Хэ-хэ ху-ху-хуу хэ
Х-у-у-у хэ
Когда до забора оставались последние метры, Вася начала угадывать Наташин план. Заблудший ясенелистный клён однажды решил пустить у Стены корни; ствол его с годами разделился надвое: один отпрыск покорно припал к земле, а другой возвысился над белой оградой, обозревая иную жизнь леса. И во всём мире не было клёна лучше, чем этот, — думалось Васе.
— Сначала я, — Наташа, не переходя на шаг, взлетела на дерево, подтянулась на стволовою развилку, и стала карабкаться на волю. Вася старалась не отставать, но ей не хватало смелости. Только когда Ленин стал неистово драть кору на дереве и танцевать, клацая челюстями, она наугад выбросила ноги куда-то ввысь и подтянулась на тонкой скрипучей ветке. Внизу раздался мокрый шлепок — это Наташа приземлилась по ту сторону “Непоседы”. Вася выбрала ветку покрепче и поползла по ней прочь, как редкая обезьянка, убегающая от операторского объектива. Ветка, поначалу казавшаяся надёжной, прогибалась чем дальше, тем сильнее, как завербованный трусливый диссидент.
Боль вонзилась в Васину икроножную мышцу острым шампуром, прошла через всё тело и вышла в пальцах рук.
“Шубу изгваздаю”, — успело мрачно подуматься Васе, и конечности её послушно разжались. Коротко вскрикнув, девочка мешочком упала на ранний декабрьский покров, едва успевший закутаться в зимнюю шубку. Ленин больше не лаял, только молча топтался за Стеной.
Оркестровая яма опустела, тапёр снял котелок и траурно прикрыл им свою промежность.
Волкодав Ленин всегда грандиозно лежал у поста охраны, заглядывая проходящим в глаза. За годы прилежной службы он снискал славу “большой и страшной собаки, которая никогда никого не кусала”. Волкодав либо вылаивал посетителей, по незнанию или с умыслом не заказавших пропуск на территорию больницы заблаговременно, либо могуче храпел во сне. Теперь же страшный Ленин, позабыв своё доброе имя, длинными мохнатыми прыжками нагонял деточек. Вася с Наташей помчались молча, стараясь обогнать друг друга.
Хэ-хэ
Х-у-у-у-у
Хэ-хэ
Х-у-у-у-у
Ленин тоже больше не лаял, а только астматически дышал им в спины. В октябре ему исполнилось тринадцать лет, то есть сто по человеческим меркам. Седина в бороду — бес в ребро. Так говорила бабушка, потрясая дедмишиным паспортом, пока сам Дедмиша пьяно продирался сквозь неё в туалет, не разуваясь.
Хэ-хэ ху-ху-хуу
Хэ-хэ ху-ху-хуу хэ
Х-у-у-у хэ
Когда до забора оставались последние метры, Вася начала угадывать Наташин план. Заблудший ясенелистный клён однажды решил пустить у Стены корни; ствол его с годами разделился надвое: один отпрыск покорно припал к земле, а другой возвысился над белой оградой, обозревая иную жизнь леса. И во всём мире не было клёна лучше, чем этот, — думалось Васе.
— Сначала я, — Наташа, не переходя на шаг, взлетела на дерево, подтянулась на стволовою развилку, и стала карабкаться на волю. Вася старалась не отставать, но ей не хватало смелости. Только когда Ленин стал неистово драть кору на дереве и танцевать, клацая челюстями, она наугад выбросила ноги куда-то ввысь и подтянулась на тонкой скрипучей ветке. Внизу раздался мокрый шлепок — это Наташа приземлилась по ту сторону “Непоседы”. Вася выбрала ветку покрепче и поползла по ней прочь, как редкая обезьянка, убегающая от операторского объектива. Ветка, поначалу казавшаяся надёжной, прогибалась чем дальше, тем сильнее, как завербованный трусливый диссидент.
Боль вонзилась в Васину икроножную мышцу острым шампуром, прошла через всё тело и вышла в пальцах рук.
“Шубу изгваздаю”, — успело мрачно подуматься Васе, и конечности её послушно разжались. Коротко вскрикнув, девочка мешочком упала на ранний декабрьский покров, едва успевший закутаться в зимнюю шубку. Ленин больше не лаял, только молча топтался за Стеной.
Оркестровая яма опустела, тапёр снял котелок и траурно прикрыл им свою промежность.
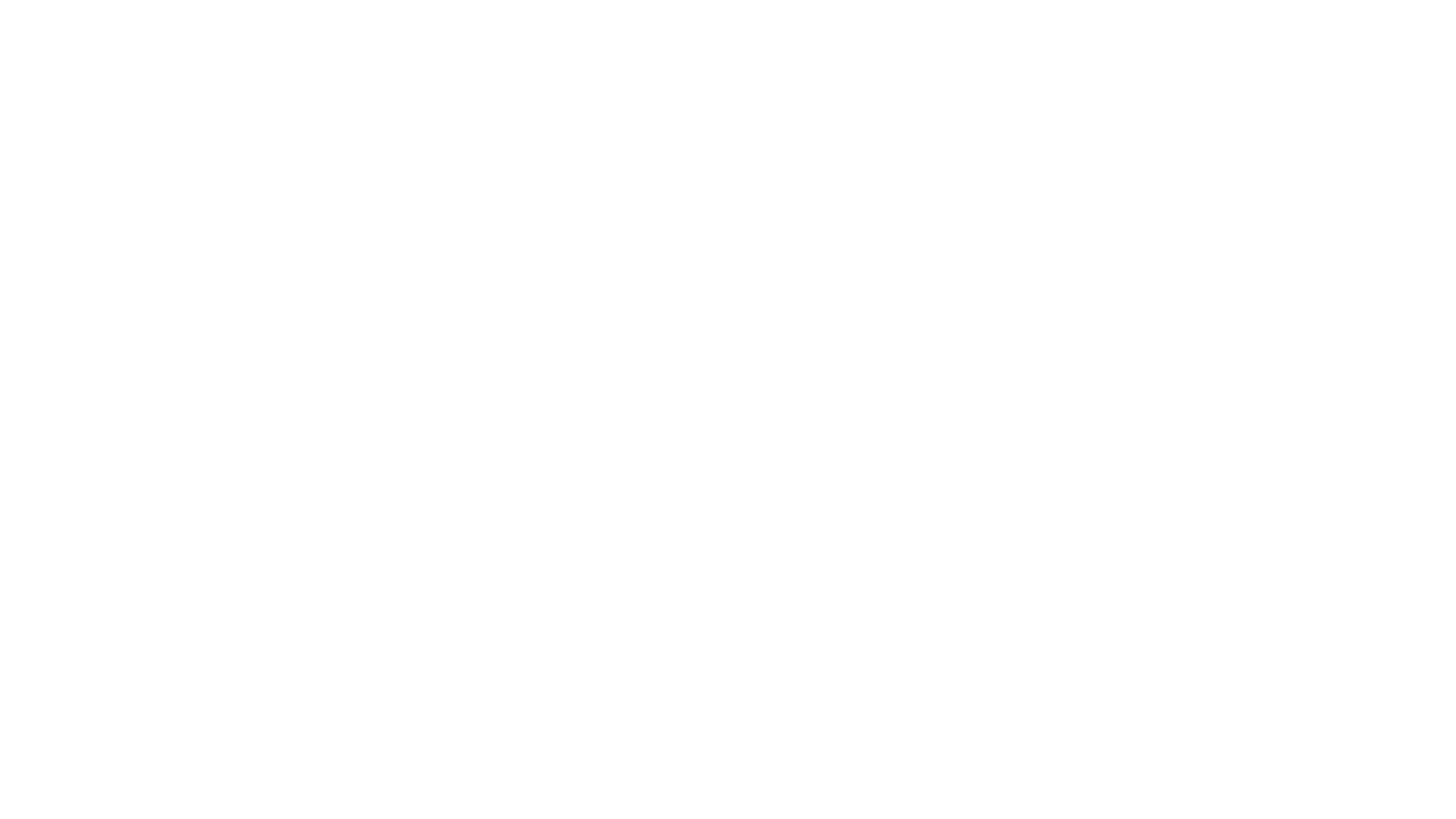
»
Об авторе
Диана Ковригина (Синяя Крыса) — чувашская писательница и поэтесса двадцати восьми лет. В 2022 году эмигрировала в Грузию.
Тут можно задонатить на работу журнала
Дорогой читатель, наш журнал можно поддержать с помощью лари и рублей.
Рублями - тут.
А лари - сюда:
Карта Georgian bank
GE30BG0000000365904931
Stanislav Gaivoronskii
Рублями - тут.
А лари - сюда:
Карта Georgian bank
GE30BG0000000365904931
Stanislav Gaivoronskii
